Д.Быков «Мать»
Д.Быков написал довольно пронзительный текст для «Русского пионера». Привожу полностью, дабы потом для не рыскать по мертвым сайтам в поисках окончания
«Мать оставила мне довольно много денег, но я не могу ими воспользоваться. Тут есть над чем подумать, хотя обо всём, что с ней связано, мне думать невыносимо. Когда умерла мать, со мной случилось худшее, что я мог себе представить, то, чего я всю жизнь боялся, то, из-за чего моя жизнь постоянно обрастала новыми ритуалами, хотя причину их происхождения я прекрасно понимал. Теперь мне вообще не для кого стараться, в том числе в литературе. Дети обойдутся без моих литературных успехов, жена тем более меня любит не за это. Мать мной гордилась, хотя бы перед друзьями, а больше мной никто не гордится. Это верно, впрочем, применительно ко всем. Вы можете быть нужны многим, но гордятся вами только родители. Дети могут гордиться в лучшем случае вашими возможностями.
Мать никогда не брала у меня денег, всучить ей хоть что-то всегда было проблемой. Я придумал для этого довольно надежный способ — привлек её к составлению композиций, которые начитывал в качестве аудиокниг, и она бралась за это и делала, как всегда, безупречно: отбирала рассказы Паустовского, главы «Войны и мира», лучшие повести Тургенева,— я ей потом вручал долю в специально реквизированных для этой цели конвертах с маркировкой издательства. Все эти конверты я нашёл у неё нераспечатанными. Она отнюдь не брезговала моими деньгами, но у неё был принцип — ничего на себя не тратить; в этой аскезе, как у лучших людей ее поколения, был источник душевных сил. Она опиралась только на себя и этим гордилась. Работы ей хватало до последнего дня, к ней стояла репетироваться очередь из старшеклассников, и не всегда это было связано с необходимостью поступать в институты (сейчас пошли такие родители и такие абитуриенты, что поступление в любой вуз покупается на раз): это следующее поколение её выпускников обеспечивало своим детям нормальное развитие, а себе — сносную старость. Ужасно же стареть рядом с идиотом. Поэтому репетиторская работа была и помогала ей вставать по утрам и самоорганизовываться, не впадая в обычную стариковскую депрессию. Я, в общем, такой же. Мне важны не деньги, которые платят за работу, а востребованность. В старости я, кажется, готов буду клеить коробочки, как в «Королевском парке». Это про меня еврейский анекдот — «во-первых, навар, а во-вторых, я всё-таки при деле». Ничего не поделаешь, нас так учили: человек нужен, пока нужен, востребованность — главный показатель, самодостаточности не существует. Я думаю, это по крайней мере трезвый взгляд.
Мать копила деньги не на меня, она хотела обеспечить себя на то время, когда не сможет работать, чтобы ни от кого не зависеть и никого не отягощать; правда, представить себе время, когда она не смогла бы работать, я не могу, она и в Склифе объясняла молоденьким медсестрам, почему «Отцы и дети» так называются. И когда рядом с ней в реанимации буянил доставленный туда алкаш, она одна по-учительски сумела его утихомирить. Состояние зависимости вообще было не по ней. Но вышло так, что ей эти деньги не понадобились. Я мог отправить её в платную больницу и сам эту больницу оплатить, но скорая сказала: лучше всего Склиф, там лучшие профессионалы. Эти профессионалы мне сразу сказали, что в её возрасте шанс невелик, но будем стараться. Наверное, они старались. Претензий к ним у меня нет, хотя, наверное, в платной ей уделяли бы больше внимания, больше разговаривали,— зато не факт, что пускали бы меня, а здесь пускали, и это нам обоим было нужно. Так что потратить деньги на больницу она не успела, и теперь они достались мне — как положено, через полгода. Полгода выжидают нотариусы на случай, что появятся другие наследники. В нашем случае таких наследников нет.
В силу того, что у матери был хороший вкус, воспитанный семьей, старой профессурой и русской классикой, я был избавлен от неизбежных, казалось бы, разговоров о том, что я единственная надежда и опора и должен вести себя соответственно. Хороших сыновей не бывает, или, верней, это понятие временное, окказиональное, как счастье. Примерно так и с любовниками: в разгар романа тебе всегда говорят, что ты лучший и что до этого она ни с кем ничего не чувствовала, а ретроспективно, следующему, обязательно говорят, что ты был эгоистом и думал только о своём удовольствии. Так и хорошим сыном бываешь в немногие минуты душевной гармонии, а в любом разговоре с подругой обязательно выходишь неблагодарной сволочью, которая неправильно выбрала жену, плохо воспитывает собственных детей и редко звонит. Про меня всего этого набора пошлостей никогда не говорили. И тем не менее хороших сыновей не бывает — так же, как, согласно формуле Маши Трауб, нет правильных родителей: мы виноваты уже хотя бы тем, что переживаем матерей, а если не переживаем, это еще хуже, мы их бросаем сиротами. Получается неразрешимая ситуация: я всегда хотел быть для матери хорошим, для других никогда, потому что цену этим другим я примерно знаю, а для неё хотел; и именно это как раз невозможно. Потому что сын, называющий себя хорошим,— это примерно как человек, заявляющий, что он прожил прекрасную жизнь, что он этой жизнью вполне доволен. Такому человеку можно было, я думаю, вовсе не родиться, ничего бы принципиально не изменилось. Если человек после пятидесяти считает, что его жизнь прошла не зря,— вы можете быть стопроцентно уверены, что имеете дело либо с эго-маньяком, либо с серьезным грешником. Это как в главном правиле здоровья: если после шестидесяти у вас с утра ничего не болит, значит, вы не проснулись. Я не был хорошим сыном уже потому, что мать жила одна, хоть я и бывал у неё почти ежедневно, потому что жил всегда по соседству. Могу себе представить, во что превратилась бы её жизнь, если бы к ней в квартиру вперлись мы с Катькой (а такой опыт был), а потом ещё и с бэбзом, тетешкать которого она отнюдь не стремилась,— но даже с регулярными визитами коллег и с помощницей по хозяйству она всё-таки была одна, и это был её выбор, в котором я ничего не мог изменить. Я был бы виноват при любом раскладе, потому что сын виноват всегда. Из-за этой внутренней вины я не могу воспользоваться её деньгами. По сравнению с моими собственными заработками, учительскими и книжными, это не такие большие деньги, но дело не в их количестве. Я не совсем могу объяснить отношение к ним — это примерно как если бы от неё осталось старое домашнее животное, которое бы меня не любило (старые домашние животные вообще мало кого любят), или вот, например, у неё в квартире есть цветы. У нас никаких цветов нет, потому что мы в беспрерывных разъездах, мы везде ездим вместе, так повелось с самого начала (это и спасло мне жизнь в слишком известной ситуации, про которую лучше бы пореже вспоминать, но теперь уж ничего не поделаешь). А у матери живут два очень старых лимона, которые я помню с детства, несколько кактусов и бегоний, и мне кажется очень важным поддерживать в них жизнь, потому что это, в общем, единственное живое, что мне от неё осталось. По этой же причине я никогда не смогу раздать бедным её гардероб, содержавшийся в идеальном состоянии. Я сейчас уехал преподавать туда, где это, кажется, нужнее,— и поливать цветы дважды в неделю заходит мой старший сын, вообще очень добрый мальчик; вот он хороший сын, на случай, если его когда-нибудь будет терзать совесть по этому вопросу, но надеюсь, что в этике нового века такие терзания отойдут в прошлое.
…Откладывала она, конечно, не только на лечение. У неё был в жизни один праздник, по крайней мере в последние годы,— санаторий летом. По месяцу в каждом. Это были старые советские санатории, построенные в расчете на престарелых партийных бонз, а теперь переходящие от ведомства к ведомству — то мэрии, то министерству обороны. Мать не имела возможности прилично отдыхать в советские годы и на старости лет полюбила эти санатории, там её тоже все обожали, она немедленно обрастала толпой подруг. Вообще, надо сказать, она удивительным образом везде, даже в реанимации, притягивала людей, и большим счастьем было ездить к ней летом, навещать её в этих санаториях и видеть вокруг неё толпу людей, которым она что-то весело рассказывала. Рассказывала она лучше меня, то есть очень хорошо. Мне из этих санаториев теперь всё время звонят, обещают ей скидки. Наверное, самое лучшее было бы поехать туда летом, как бы за неё, но это будет уж совсем невыносимо; да и кому мне там рассказывать о том, о чём я умею? Я боюсь, уже и бэбзу-то это будет ни зачем не нужно.
Кстати, я никогда публично не называл её мамой, скажите еще «мамочкой», некоторые тоже практикуют. Или матушка, как бы иронически. Мне и на радио писали: почему вы всегда говорите «мать», ведь это грубо? Они знают слово «мать» только в одном контексте. Им это грубо. Нет, товарищи, это у вас мать бывает только ядрёна. Для меня она мать, так это всегда принято в доме, не считая всяких взаимных насмешливых прозвищ. Думаю, отчасти это потому, что она мне вполне заменила Родину — и в качестве идеала, и в качестве нравственного образца.
Моя мать была гораздо лучше моей Родины, я теперь могу это сказать вслух, хотя для этого требуется известная храбрость. «Настоящих людей очень мало, на планету совсем ерунда, на Россию — одна моя мама, только что она может одна?» — спето в лучшей, по-моему, и уж точно самой отважной песне Окуджавы, которую ему так и не простили. Но почему бы не назвать вещи своими именами: Родина по отношению к нам ведет себя совершенно не по-матерински. Получается так, что не она себе во всём отказывает ради нас, а как-то мы, наоборот, должны себе во всём отказывать и оставаться виноватыми, потому что ведь насытить её невозможно. Как написал недавно один отставной писатель, это не хорошо и не плохо, это физика. У нас нет и не будет проблем, как распорядиться наследством нашей Родины, потому что, во-первых, Родина бессмертна, а во-вторых, она нам ничего не оставит. Она как-нибудь устроит так, чтобы подпалить дом вместе со всеми нами, иначе такие истории не кончаются. А вот мы ей всегда всё оставляем — чтобы она распорядилась этим очень неадекватно: либо запретила, либо изуродовала. Вообще всё, что нельзя использовать для военных нужд, проходит у неё по разряду хлама. Иногда от одиноких стариков остается такой хлам, вроде растрёпанной, со вставками, рукописи, над которой он корпел всю жизнь, и его спокойно выбрасывают новые хозяева. Повезло в этом смысле только Генри Дарджеру, который всю жизнь писал два романа — один 15.000 страниц, другой 10.000; он стал самым известным американским писателем-аутсайдером, по нему книги издают и симпозиумы проводятся, но это он жил не в России. Какая-нибудь тварь, каких сейчас расплодилось очень много, обязательно прошипит: вот, Быков даже о матери не может написать, чтобы не плюнуть в Россию; но что поделать, если на фоне моей матери про Россию особенно все понятно?
Почему я придаю такое значение этим деньгам, не особенно большим? Потому что это ещё одно живое, что осталось, и ещё одно безусловное доказательство того, что мать всю жизнь занималась настоящим делом. Сама она, честно говоря, не была так уж в этом уверена и часто повторяла — вслед за дедом, все сбережения которого Родина, по своему обыкновению, обнулила в начале девяностых,— что жизнь ушла непонятно на что и шестьдесят лет ранних подъемов, бесконечных уроков, проверяния тетрадей и составления отчётов ушли, в общем, псу под хвост, особенно если учесть, что уроки русской классики никем не усвоены и никого не спасли. Из всей этой классики осталось «Гром победы раздавайся», а когда закончится эта эпоха, всё будет уже настолько скомпрометировано, что переоценивать три скромных века русской светской культуры будет особенно некому. Но вот от всей этой невыносимо богатой, напряженной и трудной жизни осталось некоторое количество денег, которыми я должен распорядиться. Отдавать их на благотворительность я не буду — именно потому, что мне проще отдать свои: это как-то психологически мне непонятно. Я отдам их, наверное, старшему сыну — другому человеку, перед которым я виноват, потому что перед детьми мы тоже всегда виноваты. Ничего не поделаешь, единственное назначение денег — это форма откупа. Больше они ни для чего не нужны. Прокормить жену и младшего я и так как-нибудь могу.
Вообще отношения единственного сына с матерью легкими не бывают, и сколь бы, скажем, Волошин ни идеализировал их,— у него с Пра всё тоже было непросто, она хотела видеть его не таким и не особенно это скрывала. Иногда мне казалось, что и мать желала бы видеть на моём месте что-то совсем другое, поглупей, попроще и помягче. Но по крайней мере в одном она могла не сомневаться: хороша она или нехороша, но всё-таки лучше всех, кого я видел и знал. А вот что нам делать теперь со всем тем лучшим, что мы видели и знали, со всем тем лучшим, чего больше никогда не будет в этой стране и, может быть, за её пределами,— вот это совершенно непонятно. И что делать с её книгами — я тоже не понимаю, хотя вырос на всех этих книгах и никогда и никому не смогу их отдать. Да по большому счету я не знаю даже, что делать с квартирой, где сам я жил до восемнадцати лет и нередко ночевал потом. Никому отдать её я не могу, жить в ней тоже не могу. И вот это уж точно про Родину. Извините за откровенность, больше не буду.»
Предыдущий постНа острове Крит находится одно из самых старых оливковых деревьев – ему более 3000 лет. Расположено оно в деревушке Пано [...] |
Следующий постКак приятно вспомнить молодость и снова начать писать перьевой чернильной ручкой. Не пользовался перьевой ручкой лет двадцать, со студенческих времен. |
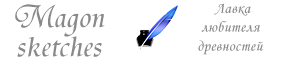
 Опубликовано:
Опубликовано:  Категория:
Категория: 
